Великий мистик, изменивший прозу: Набоков, Чехов, Белый и современные писатели — о Николае Гоголе
1 апреля 2024 года исполнилось 215 лет со дня рождения Николая Гоголя, классика русской литературы, автора «Невского проспекта», «Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Тараса Бульбы», «Шинели», хорошо знакомых каждому еще по школьной программе. Отобрали 12 цитат писателей, от современников самого Гоголя до наших дней. Почему классик так важен, как он на них повлиял, как стоит его читать и почему они его любили — и любят?
Александр Пушкин
(1799–1837)
Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались «Вечера», то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою книгою, а автору сердечно желаю дальнейших успехов. Ради бога, возьмите его сторону, если журналисты, по своему обыкновению, нападут на неприличие его выражений, на дурной тон и проч. Пора, пора нам осмеять les precieuses ridicules нашей словесности, людей, толкующих вечно о прекрасных читательницах, которых у них не бывало, о высшем обществе, куда их не просят, и все это слогом камердинера профессора Тредьяковского.
(Из письма к издателю «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду», о «Вечерах на хуторе близ Диканьки»)
Иван Тургенев
(1818–1883)
Для нас он был более, чем только писатель: он раскрыл нам нас самих. Он во многих отношениях был для нас продолжателем Петра Великого. Быть может, эти слова покажутся вам преувеличенными, внушенными горем. Но вы не знаете его; вам известны только самые незначительные из его произведений; и если б даже вы знали их все, то и тогда вам трудно было бы понять, чем он был для нас. Надо быть русским, чтобы это почувствовать. Самые проницательные умы из иностранцев, как, на пример, Мериме, видели в Гоголе только юмориста английского типа. Его историческое значение совершенно ускользнуло от них. Повторяю, надо быть русским, чтобы понимать, кого мы лишились.
(Из письма к Полине Виардо, 21 февраля 1852 года)
Лев Толстой
(1828–1910)
Гоголь — огромный талант, прекрасное сердце и небольшой, несмелый, робкий ум. Отдается он своему таланту — и выходят прекрасные литературные произведения, как «Старосветские помещики», первая часть «Мертвых душ», «Ревизор» и в особенности — верх совершенства в своем роде — «Коляска». Отдается своему сердцу и религиозному чувству — и выходят в его письмах, как в письме «О значении болезней», «О том, что такое слово» и во многих и многих других, трогательные, часто глубокие и поучительные мысли. Но как только хочет он писать художественные произведения на нравственно-религиозные темы или придать уже написанным произведениям несвойственный им нравственно-религиозный поучительный смысл, выходит ужасная, отвратительная чепуха, как это проявляется во второй части «Мертвых душ», в заключительной сцене к «Ревизору» и во многих письмах.
Происходит это оттого, что, с одной стороны, Гоголь приписывает искусству несвойственное ему высокое значение, а с другой — еще менее свойственное религии низкое значение церковное, и хочет объяснить это воображаемое высокое значение своих произведений этой церковной верой. Если бы Гоголь, с одной стороны, просто любил писать повести и комедии и занимался этим, не придавая этим занятиям особенного, гегельянского, священнослужительского значения, и, с другой стороны, просто признавал бы церковное учение и государственное устройство, как нечто такое, с чем ему незачем спорить и чего нет основания оправдывать, то он продолжал бы писать и свои очень хорошие рассказы и комедии и при случае высказывал бы в письмах, а может быть, и в отдельных сочинениях, свои часто очень глубокие, из сердца выходящие нравственные религиозные мысли. Но, к сожалению, в то время как Гоголь вступил в литературный мир, в особенности после смерти не только огромного таланта, но и бодрого, ясного, незапутанного Пушкина, царствовало по отношению к искусству — не могу иначе сказать — то до невероятности глупое учение Гегеля, по которому выходило то, что строить дома, петь песни, рисовать картины и писать повести, комедии и стихи представляет из себя некое священнодействие, «служение красоте», стоящее только на одну степень ниже религии. Одновременно с этим учением было распространено в то время и другое, не менее нелепое и не менее запутанное и напыщенное учение славянофильства об особенном значении русского, то есть того народа, к которому принадлежали рассуждающие, и вместе с тем особенного значения того извращения христианства, которое называлось православием.
(Из статьи «О Гоголе»)
Федор Достоевский
(1821–1881)
Мне кажется тоже, что литература наша, хоть и новая, хоть и не давняя, но вовсе уж не такая мизерная. Она совсем не скудная: у нас Пушкин, у нас Гоголь, у нас Островский, и это уже литература. Преемственность мысли видна уже в этих писателях, а мысль эта сильная, всенародная. Кроме этих писателей, есть много и прежних и новых, которых не отвергла бы любая европейская литература.
(Из статьи «"Свисток" и "Русский вестник"» )
Николай Некрасов
(1821–1877)
Еще одно замечание, может быть незначительное, но когда речь идет о таком писателе, как Гоголь, то лучше сказать лишнее, чем недоговорить. Нам не понравилось, что г. Писемский прилагает к Гоголю слово «пасквилист», — то есть мы не думаем, чтоб подобным названием он оскорблял его память... но мы думаем, что оно совершенно нейдет к Гоголю. Под словом «пасквиль», «памфлет», в самом лучшем их значении, разумеется сатира односторонняя, носящая на себе горячечный след страстей и увлечений времени, ее породившего, не обегающая решительных приговоров о лицах, еще действующих, о событиях, еще не успевших определиться. Ничего подобного не найдете в сочинениях Гоголя. Можно наверное сказать, что во всей России ни один человек не найдет, чем обидеться лично во всех его сочинениях, чего нельзя сказать о последнем фельетонисте с покушением на остроумие по поводу промокших сапогов пешехода. Чем дарование слабее, тем легче и неизбежнее пасквиль закрадывается в произведение; но он ни насколько не входит в творчество или перестает быть пасквилем. Гоголь был юмористом в самом высоком и чистом значении слова, со всем спокойствием и беспристрастием художника, возводящего явления жизни в перл создания. Это выражение, столь часто, но не всегда удачно повторяемое, в приложении к его произведениям имеет полный и прекрасный смысл.
Михаил Салтыков-Щедрин
(1826–1889)
Она, эта бедная русская литература, столько времени питалась разными чуждыми, фальшивыми, отчасти даже и нечистыми соками, что время отрезвления настало наконец и для нее. Действуя под влиянием какого-то одуряющего чада, живя чужими страданиями, болея напускными болями, литература не могла не ужаснуться своей собственной пустоты и, убедившись в ней, весьма естественно пожелала освежиться. Попытки в этом смысле делались постоянно от времени до времени, но решительным образом освежение это начато Гоголем и с тех пор продолжается непрерывно. Гоголь положительно должен быть признан родоначальником этого нового, реального направления русской литературы; к нему, волею-неволею, примыкают все позднейшие писатели, какой бы оттенок ни представляли собой их произведения. Исключения в этом случае представляют лишь такие гениальные писатели, как Д. В. Григорович и П. И. Мельников, из коих первый доселе питается французским миросозерцанием, а последни сой — татарским. Но дело в том, что мы иногда ошибочно понимаем тот смысл, который заключается в слове «реализм», и охотно соединяем с ним понятие о чем-то вроде грубого, механического списыванья с натуры, подобно тому как многие с понятием о материализме соединяют понятие о всякого рода физической сытости.
(Из рецензии «"Горькая судьбина". Драма в 4-х действиях А. Писемского»)
Антон Чехов
(1860–1904)
Боборыкин отмахивается обеими руками от Гоголя и не хочет считать его родоначальником Тургенева, Гончарова, Толстого... Он ставит его особняком, вне русла, по которому тек русский роман. Ну, а я этого не понимаю. Коли уж становиться на точку зрения естественного развития, то не только Гоголя, но даже собачий лай нельзя ставить вне русла, ибо все в природе влияет одно на другое и даже то, что я сейчас чихнул, не останется без влияния на окружающую природу.
(Из письма А. С. Суворину от 29 ноября 1891 года)
Андрей Белый
(1880–1934)
Весь размах лирики, данный ритмами, от которых себя отвлекает в прозе Пушкин, вложил Гоголь в прозу, заставляя вздрагивать, как струны, вытянутые свои строки, дающие звук ассонансов и аллитераций. До него попытки в этом роде не увенчивались успехом: лирика Карамзина охладела для нас; Марлинский нам и вовсе не нужен. Гоголь же и волнует, и удивляет нас через сто лет; и это есть факт им осуществленной победы, граничащей с революцией нашей словесности.
«Мертвые души» — целая эпопея, раздвигающая границы эпоса. В эпопеях древности сохранен отзвук еще допоэтических, синкретических форм, не сохранившихся в эпических поэмах позднейшего времени. И до Гоголя — нет эпических поэм в прозе; как нет и в поэмах широкоохватности. Поэма Гоголем влита в прозу; жизнь эпохи — в поэзию; эпопею подчеркивает Гоголь, как отдельную от поэм форму. Гоголь — сама эпопея прозы, поскольку в ней русский народный язык влил жизнь в «литературу и только»; «штиль» мелкопоместного, дворянина, сниженного в мещанстве, высокопарица канцеляриста и грубая смачность семинариста им впаяны вместе с местными народными говорами в литературную форму; Пушкин еще посылал учиться языку у просвирен; Гоголь из этого именно языка извлек оттенки непередаваемой звучности. Там, где были местные и сословные языки, стал «язык языков», гибкий в оттенках перехода: от наречия к наречию. И новый язык зажег жизнь в лучших наших прозаиках-классиках. Переродилось самое понятие «проза»; и русская литература заняла первое место в мировой.
Толчок к тому — в Гоголе.
(Из статьи «Мастерство Гоголя»)
Владимир Набоков
(1899–1977)
Похвала Пушкина мне кажется несколько преувеличенной. Но нельзя забывать, что почти ничего поистине стоящего (кроме прозы самого Пушкина) в ту пору не публиковалось из русской художественной литературы. По сравнению с дешевыми подражаниями английским и французским романам 18 в., которые покладистый читатель жадно глотал из-за отсутствия настоящей духовной пищи, «Вечера» Гоголя, конечно, были откровением. Их прелесть и юмор с тех пор разительно поблекли. Странное дело, но именно благодаря «Вечерам» (и первому и второму томам) за Гоголем укрепилась слава юмориста. Когда мне кто-нибудь говорит, что Гоголь «юморист», я сразу понимаю, что человек этот не слишком разбирается в литературе. Если бы Пушкин дожил до «Шинели» и «Мертвых душ», он бы несомненно понял, что Гоголь нечто большее, чем поставщик «настоящей веселости». Недаром ходит легенда, кажется, тоже придуманная Гоголем, что когда незадолго до смерти Пушкина он прочел ему набросок первой главы «Мертвых душ», тот воскликнул: «Боже, как грустна наша Россия!»
Немало скороспелых похвал порождено было местным колоритом, а местный колорит быстро выцветает. Я никогда не разделял мнения тех, кому нравятся книги только за то, что они написаны на диалекте, или за то, что действие в них происходит в экзотических странах. Клоун в одежде, расшитой блестками, мне не так смешон, как тот, что выходит в полосатых брюках гробовщика и манишке. На мой вкус, нет ничего скучнее и тошнотворней романтического фольклора или потешных баек про лесорубов, йоркширцев, французских крестьян или украинских парубков. И поэтому два тома «Вечеров», так же как и два тома повестей, озаглавленных «Миргород» (куда вошли «Вий», «Тарас Бульба», «Старосветские помещики» и т. д.), появившиеся в 1835 г., оставляют меня равнодушным. Однако именно этими произведениями, юношескими опытами псевдоюмориста Гоголя, русские учителя забивали головы своих учеников. Подлинный Гоголь смутно проглядывает в «Арабесках» (включающих «Невский проспект», «Записки сумасшедшего» и «Портрет») и раскрывается полностью в «Ревизоре», «Шинели» и «Мертвых душах».
Разницу между человеческим зрением и тем, что видит фасеточный глаз насекомого, можно сравнить с разницей между полутоновым клише, сделанным на тончайшем растре, и тем же изображением, выполненным на самой грубой сетке, которой пользуются для газетных репродукций. Так же относится зрение Гоголя к зрению средних читателей и средних писателей. До появления его и Пушкина русская литература была подслеповатой. Формы, которые она замечала, были лишь очертаниями, подсказанными рассудком; цвета как такового она не видела и лишь пользовалась истертыми комбинациями слепцов-существительных и по-собачьи преданных им эпитетов, которые Европа унаследовала от древних. Небо было голубым, заря алой, листва зеленой, глаза красавиц черными, тучи серыми и т. д. Только Гоголь (а за ним Лермонтов и Толстой) увидел желтый и лиловый цвета. То, что небо на восходе солнца может быть бледно-зеленым, снег в безоблачный день густо-синим, прозвучало бы бессмысленной ересью в ушах так называемого писателя-«классика», привыкшего к неизменной, общепринятой цветовой гамме французской литературы 18 века.
(Из «Лекций по русской литературе. Николай Гоголь»)
Людмила Петрушевская
(1938)
Моя бабушка Валя знала наизусть «Войну и мир». Ее дочь, моя тетушка Вава, рассказывала, что, когда передавали «Войну и мир» по радио, заканчивали главу, она наизусть читала следующую. Но это было уже когда их, семью врагов народа, реабилитировали и привезли в Москву, и им дали квартиру — большое спасибо Хрущеву. А мне она рассказывала знаете что? «Мертвые души» Гоголя. Я помню, что она добавляла туда описание борща со шкварками. И еще рассказывала книгу Гоголя «Невский проспект». В частности, я выучила оттуда «Портрет», это самое страшное, что она мне рассказала. Там был описан портрет, который следил за человеком. Я рассказывала этот сюжет по дворам, пела песенки. Рваная, голодная и нечесаная, вшивая. Вы знаете, как меня слушали? Собирались вокруг.
(Из интервью Василию Зоркому «Афише.Daily»)
Евгений Водолазкин
(1964)
Гоголь для меня — один из самых проницательных русских писателей и великий мистик. Я не люблю, когда спрашивают про любимых авторов, но, если надо ответить, обычно называю Гоголя.
(Из интервью Игорю Кириенкову для «РБК-Стиль»)
Эдуард Веркин
(1975)
Гоголя я любил с детства. Дети и подростки ведь очень любят всевозможные страшилки (во всяком случае, я любил). А где найти страшилки в русской литературе, как не у Гоголя? Поэтому все эти «Страшные мести», «Утопленницы», «Сорочинские ярмарки» и прочее перечитывались много раз. Потом я прочитал «Ревизора», затем «Мертвые души» классе в пятом-шестом.
Гоголь ведь очень по-разному писал: «Мертвые души» — одним языком, «петербургские повести» — другим, «малороссийские повести» — совершенно третьим. И этот странный сплав: тем, стилистик, — конечно, оказал на меня влияние. И думаю, на большинство наших писателей: мимо Гоголя сложно пройти.
(Из интервью «Лабиринту»)
Источник
Александр Пушкин
(1799–1837)
Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались «Вечера», то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою книгою, а автору сердечно желаю дальнейших успехов. Ради бога, возьмите его сторону, если журналисты, по своему обыкновению, нападут на неприличие его выражений, на дурной тон и проч. Пора, пора нам осмеять les precieuses ridicules нашей словесности, людей, толкующих вечно о прекрасных читательницах, которых у них не бывало, о высшем обществе, куда их не просят, и все это слогом камердинера профессора Тредьяковского.
(Из письма к издателю «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду», о «Вечерах на хуторе близ Диканьки»)
Иван Тургенев
(1818–1883)
Для нас он был более, чем только писатель: он раскрыл нам нас самих. Он во многих отношениях был для нас продолжателем Петра Великого. Быть может, эти слова покажутся вам преувеличенными, внушенными горем. Но вы не знаете его; вам известны только самые незначительные из его произведений; и если б даже вы знали их все, то и тогда вам трудно было бы понять, чем он был для нас. Надо быть русским, чтобы это почувствовать. Самые проницательные умы из иностранцев, как, на пример, Мериме, видели в Гоголе только юмориста английского типа. Его историческое значение совершенно ускользнуло от них. Повторяю, надо быть русским, чтобы понимать, кого мы лишились.
(Из письма к Полине Виардо, 21 февраля 1852 года)
Лев Толстой
(1828–1910)
Гоголь — огромный талант, прекрасное сердце и небольшой, несмелый, робкий ум. Отдается он своему таланту — и выходят прекрасные литературные произведения, как «Старосветские помещики», первая часть «Мертвых душ», «Ревизор» и в особенности — верх совершенства в своем роде — «Коляска». Отдается своему сердцу и религиозному чувству — и выходят в его письмах, как в письме «О значении болезней», «О том, что такое слово» и во многих и многих других, трогательные, часто глубокие и поучительные мысли. Но как только хочет он писать художественные произведения на нравственно-религиозные темы или придать уже написанным произведениям несвойственный им нравственно-религиозный поучительный смысл, выходит ужасная, отвратительная чепуха, как это проявляется во второй части «Мертвых душ», в заключительной сцене к «Ревизору» и во многих письмах.
Происходит это оттого, что, с одной стороны, Гоголь приписывает искусству несвойственное ему высокое значение, а с другой — еще менее свойственное религии низкое значение церковное, и хочет объяснить это воображаемое высокое значение своих произведений этой церковной верой. Если бы Гоголь, с одной стороны, просто любил писать повести и комедии и занимался этим, не придавая этим занятиям особенного, гегельянского, священнослужительского значения, и, с другой стороны, просто признавал бы церковное учение и государственное устройство, как нечто такое, с чем ему незачем спорить и чего нет основания оправдывать, то он продолжал бы писать и свои очень хорошие рассказы и комедии и при случае высказывал бы в письмах, а может быть, и в отдельных сочинениях, свои часто очень глубокие, из сердца выходящие нравственные религиозные мысли. Но, к сожалению, в то время как Гоголь вступил в литературный мир, в особенности после смерти не только огромного таланта, но и бодрого, ясного, незапутанного Пушкина, царствовало по отношению к искусству — не могу иначе сказать — то до невероятности глупое учение Гегеля, по которому выходило то, что строить дома, петь песни, рисовать картины и писать повести, комедии и стихи представляет из себя некое священнодействие, «служение красоте», стоящее только на одну степень ниже религии. Одновременно с этим учением было распространено в то время и другое, не менее нелепое и не менее запутанное и напыщенное учение славянофильства об особенном значении русского, то есть того народа, к которому принадлежали рассуждающие, и вместе с тем особенного значения того извращения христианства, которое называлось православием.
(Из статьи «О Гоголе»)
Федор Достоевский
(1821–1881)
Мне кажется тоже, что литература наша, хоть и новая, хоть и не давняя, но вовсе уж не такая мизерная. Она совсем не скудная: у нас Пушкин, у нас Гоголь, у нас Островский, и это уже литература. Преемственность мысли видна уже в этих писателях, а мысль эта сильная, всенародная. Кроме этих писателей, есть много и прежних и новых, которых не отвергла бы любая европейская литература.
(Из статьи «"Свисток" и "Русский вестник"» )
Николай Некрасов
(1821–1877)
Еще одно замечание, может быть незначительное, но когда речь идет о таком писателе, как Гоголь, то лучше сказать лишнее, чем недоговорить. Нам не понравилось, что г. Писемский прилагает к Гоголю слово «пасквилист», — то есть мы не думаем, чтоб подобным названием он оскорблял его память... но мы думаем, что оно совершенно нейдет к Гоголю. Под словом «пасквиль», «памфлет», в самом лучшем их значении, разумеется сатира односторонняя, носящая на себе горячечный след страстей и увлечений времени, ее породившего, не обегающая решительных приговоров о лицах, еще действующих, о событиях, еще не успевших определиться. Ничего подобного не найдете в сочинениях Гоголя. Можно наверное сказать, что во всей России ни один человек не найдет, чем обидеться лично во всех его сочинениях, чего нельзя сказать о последнем фельетонисте с покушением на остроумие по поводу промокших сапогов пешехода. Чем дарование слабее, тем легче и неизбежнее пасквиль закрадывается в произведение; но он ни насколько не входит в творчество или перестает быть пасквилем. Гоголь был юмористом в самом высоком и чистом значении слова, со всем спокойствием и беспристрастием художника, возводящего явления жизни в перл создания. Это выражение, столь часто, но не всегда удачно повторяемое, в приложении к его произведениям имеет полный и прекрасный смысл.
Михаил Салтыков-Щедрин
(1826–1889)
Она, эта бедная русская литература, столько времени питалась разными чуждыми, фальшивыми, отчасти даже и нечистыми соками, что время отрезвления настало наконец и для нее. Действуя под влиянием какого-то одуряющего чада, живя чужими страданиями, болея напускными болями, литература не могла не ужаснуться своей собственной пустоты и, убедившись в ней, весьма естественно пожелала освежиться. Попытки в этом смысле делались постоянно от времени до времени, но решительным образом освежение это начато Гоголем и с тех пор продолжается непрерывно. Гоголь положительно должен быть признан родоначальником этого нового, реального направления русской литературы; к нему, волею-неволею, примыкают все позднейшие писатели, какой бы оттенок ни представляли собой их произведения. Исключения в этом случае представляют лишь такие гениальные писатели, как Д. В. Григорович и П. И. Мельников, из коих первый доселе питается французским миросозерцанием, а последни сой — татарским. Но дело в том, что мы иногда ошибочно понимаем тот смысл, который заключается в слове «реализм», и охотно соединяем с ним понятие о чем-то вроде грубого, механического списыванья с натуры, подобно тому как многие с понятием о материализме соединяют понятие о всякого рода физической сытости.
(Из рецензии «"Горькая судьбина". Драма в 4-х действиях А. Писемского»)
Антон Чехов
(1860–1904)
Боборыкин отмахивается обеими руками от Гоголя и не хочет считать его родоначальником Тургенева, Гончарова, Толстого... Он ставит его особняком, вне русла, по которому тек русский роман. Ну, а я этого не понимаю. Коли уж становиться на точку зрения естественного развития, то не только Гоголя, но даже собачий лай нельзя ставить вне русла, ибо все в природе влияет одно на другое и даже то, что я сейчас чихнул, не останется без влияния на окружающую природу.
(Из письма А. С. Суворину от 29 ноября 1891 года)
Андрей Белый
(1880–1934)
Весь размах лирики, данный ритмами, от которых себя отвлекает в прозе Пушкин, вложил Гоголь в прозу, заставляя вздрагивать, как струны, вытянутые свои строки, дающие звук ассонансов и аллитераций. До него попытки в этом роде не увенчивались успехом: лирика Карамзина охладела для нас; Марлинский нам и вовсе не нужен. Гоголь же и волнует, и удивляет нас через сто лет; и это есть факт им осуществленной победы, граничащей с революцией нашей словесности.
«Мертвые души» — целая эпопея, раздвигающая границы эпоса. В эпопеях древности сохранен отзвук еще допоэтических, синкретических форм, не сохранившихся в эпических поэмах позднейшего времени. И до Гоголя — нет эпических поэм в прозе; как нет и в поэмах широкоохватности. Поэма Гоголем влита в прозу; жизнь эпохи — в поэзию; эпопею подчеркивает Гоголь, как отдельную от поэм форму. Гоголь — сама эпопея прозы, поскольку в ней русский народный язык влил жизнь в «литературу и только»; «штиль» мелкопоместного, дворянина, сниженного в мещанстве, высокопарица канцеляриста и грубая смачность семинариста им впаяны вместе с местными народными говорами в литературную форму; Пушкин еще посылал учиться языку у просвирен; Гоголь из этого именно языка извлек оттенки непередаваемой звучности. Там, где были местные и сословные языки, стал «язык языков», гибкий в оттенках перехода: от наречия к наречию. И новый язык зажег жизнь в лучших наших прозаиках-классиках. Переродилось самое понятие «проза»; и русская литература заняла первое место в мировой.
Толчок к тому — в Гоголе.
(Из статьи «Мастерство Гоголя»)
Владимир Набоков
(1899–1977)
Похвала Пушкина мне кажется несколько преувеличенной. Но нельзя забывать, что почти ничего поистине стоящего (кроме прозы самого Пушкина) в ту пору не публиковалось из русской художественной литературы. По сравнению с дешевыми подражаниями английским и французским романам 18 в., которые покладистый читатель жадно глотал из-за отсутствия настоящей духовной пищи, «Вечера» Гоголя, конечно, были откровением. Их прелесть и юмор с тех пор разительно поблекли. Странное дело, но именно благодаря «Вечерам» (и первому и второму томам) за Гоголем укрепилась слава юмориста. Когда мне кто-нибудь говорит, что Гоголь «юморист», я сразу понимаю, что человек этот не слишком разбирается в литературе. Если бы Пушкин дожил до «Шинели» и «Мертвых душ», он бы несомненно понял, что Гоголь нечто большее, чем поставщик «настоящей веселости». Недаром ходит легенда, кажется, тоже придуманная Гоголем, что когда незадолго до смерти Пушкина он прочел ему набросок первой главы «Мертвых душ», тот воскликнул: «Боже, как грустна наша Россия!»
Немало скороспелых похвал порождено было местным колоритом, а местный колорит быстро выцветает. Я никогда не разделял мнения тех, кому нравятся книги только за то, что они написаны на диалекте, или за то, что действие в них происходит в экзотических странах. Клоун в одежде, расшитой блестками, мне не так смешон, как тот, что выходит в полосатых брюках гробовщика и манишке. На мой вкус, нет ничего скучнее и тошнотворней романтического фольклора или потешных баек про лесорубов, йоркширцев, французских крестьян или украинских парубков. И поэтому два тома «Вечеров», так же как и два тома повестей, озаглавленных «Миргород» (куда вошли «Вий», «Тарас Бульба», «Старосветские помещики» и т. д.), появившиеся в 1835 г., оставляют меня равнодушным. Однако именно этими произведениями, юношескими опытами псевдоюмориста Гоголя, русские учителя забивали головы своих учеников. Подлинный Гоголь смутно проглядывает в «Арабесках» (включающих «Невский проспект», «Записки сумасшедшего» и «Портрет») и раскрывается полностью в «Ревизоре», «Шинели» и «Мертвых душах».
Разницу между человеческим зрением и тем, что видит фасеточный глаз насекомого, можно сравнить с разницей между полутоновым клише, сделанным на тончайшем растре, и тем же изображением, выполненным на самой грубой сетке, которой пользуются для газетных репродукций. Так же относится зрение Гоголя к зрению средних читателей и средних писателей. До появления его и Пушкина русская литература была подслеповатой. Формы, которые она замечала, были лишь очертаниями, подсказанными рассудком; цвета как такового она не видела и лишь пользовалась истертыми комбинациями слепцов-существительных и по-собачьи преданных им эпитетов, которые Европа унаследовала от древних. Небо было голубым, заря алой, листва зеленой, глаза красавиц черными, тучи серыми и т. д. Только Гоголь (а за ним Лермонтов и Толстой) увидел желтый и лиловый цвета. То, что небо на восходе солнца может быть бледно-зеленым, снег в безоблачный день густо-синим, прозвучало бы бессмысленной ересью в ушах так называемого писателя-«классика», привыкшего к неизменной, общепринятой цветовой гамме французской литературы 18 века.
(Из «Лекций по русской литературе. Николай Гоголь»)
Людмила Петрушевская
(1938)
Моя бабушка Валя знала наизусть «Войну и мир». Ее дочь, моя тетушка Вава, рассказывала, что, когда передавали «Войну и мир» по радио, заканчивали главу, она наизусть читала следующую. Но это было уже когда их, семью врагов народа, реабилитировали и привезли в Москву, и им дали квартиру — большое спасибо Хрущеву. А мне она рассказывала знаете что? «Мертвые души» Гоголя. Я помню, что она добавляла туда описание борща со шкварками. И еще рассказывала книгу Гоголя «Невский проспект». В частности, я выучила оттуда «Портрет», это самое страшное, что она мне рассказала. Там был описан портрет, который следил за человеком. Я рассказывала этот сюжет по дворам, пела песенки. Рваная, голодная и нечесаная, вшивая. Вы знаете, как меня слушали? Собирались вокруг.
(Из интервью Василию Зоркому «Афише.Daily»)
Евгений Водолазкин
(1964)
Гоголь для меня — один из самых проницательных русских писателей и великий мистик. Я не люблю, когда спрашивают про любимых авторов, но, если надо ответить, обычно называю Гоголя.
(Из интервью Игорю Кириенкову для «РБК-Стиль»)
Эдуард Веркин
(1975)
Гоголя я любил с детства. Дети и подростки ведь очень любят всевозможные страшилки (во всяком случае, я любил). А где найти страшилки в русской литературе, как не у Гоголя? Поэтому все эти «Страшные мести», «Утопленницы», «Сорочинские ярмарки» и прочее перечитывались много раз. Потом я прочитал «Ревизора», затем «Мертвые души» классе в пятом-шестом.
Гоголь ведь очень по-разному писал: «Мертвые души» — одним языком, «петербургские повести» — другим, «малороссийские повести» — совершенно третьим. И этот странный сплав: тем, стилистик, — конечно, оказал на меня влияние. И думаю, на большинство наших писателей: мимо Гоголя сложно пройти.
(Из интервью «Лабиринту»)
Источник
1
Другие новости


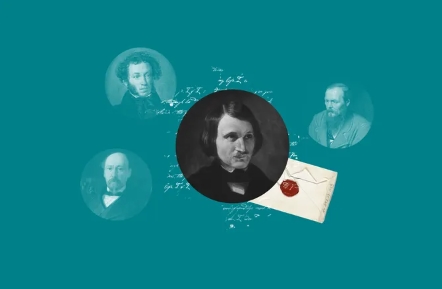

Написать комментарий: