10 главных книг о блокаде Ленинграда ❘ фото
В 2024 году исполнилось 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда. В петербургском Манеже открылся большой проект, посвященный жизни горожан в те годы. А мы составили список важнейших книг о трагедии — от известных еще советским читателям до выпущенных совсем недавно.
«Блокадная книга»
Даниил Гранин, Алесь Адамович
Впервые напечатанная с купюрами в «Новом мире» в 1977 году, много раз переизданная с тех пор и один раз даже прочитанная перед камерой режиссера Александра Сокурова, «Блокадная книга» — это то, что должно стоять на полке в каждой петербургской семье. Адамович и Гранин собирали, записывали, компоновали документальные свидетельства и интервью. В поисках свидетелей ходили по ленинградским коммуналкам, натыкаясь на неизбежный вопрос «А вам зачем?». К концу семидесятых ленинградская блокада была почти запретной темой: о ней не хотели слышать и те, кто ее пережил, и официальная пропаганда, хотя сама Вторая мировая война как таковая всегда оставалась предметом священным. Так русская культура впервые встала перед болезненной загадкой «ленинградского стыда»: советские Афины, которым внезапно выпала участь Спарты, не хотели касаться своих ран. «Блокадная книга» не дает ответа на вопрос, почему. Она впервые описала раны. Упоминания о людоедстве, о совместных банях мужчин и женщин, равно превратившихся в ходячие безразличные мумии, советская цензура, конечно, вымарала: за какую грань перешли ленинградцы, никому не хотелось ни знать, ни вспоминать.
Цитата: «Откровенно говоря, мы многого не знали, не знали, какие жестокие вещи стоят за привычными словами „ленинградская блокада“. Даже мы, прошедшие войну — один в белорусских партизанах, другой на Ленинградском фронте, — казалось, привычные ко всему, были не готовы к этим рассказам. Они ведь, эти люди, щадили нас все годы, но себя, рассказывая, уже не щадят…»
«Проходящие характеры. Проза военных лет. Записки блокадного человека»
Лидия Гинзбург
Об их издании в СССР нечего было и думать. Лидия Гинзбург это понимала хорошо — недаром в ее прозе так часто мелькает мысль: а не загнивают ли тексты без читателя. Над записками Гинзбург работала почти полвека, начиная с 1942 года; при публикации поставила тройную дату «1942 — 1962 — 1983». То, что человек подобного интеллекта и литературного дара пережил блокаду и рассказал о ней, своего рода культурная удача: на такой бесстрашный уровень осмысления экзистенциальный опыт блокады был поднят впервые и один-единственный раз. День дистрофика (начинается микроглавой «Пробуждение», кончается «отходом ко сну»), разговоры в столовых и на улицах — с наибольшей полнотой блокадная проза Гинзбург издана совсем недавно, в 2011 году.
Цитата: «В отчужденном теле совершается ряд гнусных процессов — перерождения, усыхания, распухания, непохожих на старую добрую болезнь, потому что совершающихся как бы над мертвой материей. Иные из них даже незаметны для пораженного ими человека. „А ведь он уже пухнет“, — говорят про него, но он еще не знает об этом. Люди долго не знали, пухнут ли они или поправляются. Вдруг человек начинает понимать, что у него опухают десны. Он с ужасом трогает их языком, ощупывает пальцем. Особенно ночью он подолгу не может от них оторваться. Лежит и сосредоточенно чувствует что‑то одеревенелое и осклизлое, особенно страшное своей безболезненностью: слой неживой материи у себя во рту.
Месяцами люди — большая часть жителей города — спали не раздеваясь. Они потеряли из виду свое тело. Оно ушло в глубину, замурованное одеждой, и там, в глубине, изменялось, перерождалось. Человек знал, что оно становится страшным».
«Сохрани мою печальную историю… Блокадный дневник Лены Мухиной»
Всем, кто пережил пионерское детство, известен «Дневник Тани Савичевой»; собственно, он состоит из фраз, коротких, как надпись на обелиске: умер тот-то, умерла такая-то, умерли все, осталась одна Таня. Это форма, в которой в СССР допускалось знать о блокаде: главное, без деталей. Детали — в другом детском дневнике, Лены Мухиной. Он страшен именно своей простотой. Мучительный, унизительный, обесчеловечивающий, трагически-мелочный быт, где с зимы 1941 года детства больше нет вообще.
Цитата: «По правде говоря, если Ака умрет, это будет лучше и для нее, и для нас с мамой. Так нам приходится все делить на три части, а так мы с мамой все будем делить пополам. Ака — лишний только рот. Я сама не знаю, как я могу писать такие строки. Но у меня сердце теперь как каменное. Мне совсем не страшно. Умрет Ака или нет, мне все равно».
«Воспоминания о блокаде»
Владислав Глинка
Сотрудник Эрмитажа Владислав Михайлович Глинка начал писать свои воспоминания летом 1977 года, вдруг разъярившись из‑за потока опубликованной лжи («особенно гадкими кажутся мне поддельные дневники»), на публикацию не рассчитывал, рукопись так и лежала в семье. Сейчас, когда блокадных мемуаров и дневников опубликовано много, воспоминания Глинки важны тем, что бросают свет на одну частную трагедию: как вымирали интеллигенты. Те, кто не умел заготавливать и не имел практической сметки: одиночки на крошечной зарплате или вполне богатые коллекционеры, знаменитые ученые или мелкая музейная сошка, уцелевшие после кировского террора аристократы или роскошные обломки «старой культуры», не растерявшие себя в настоящей. Снова стать советскими Афинами Ленинграду было уже не суждено.
Цитата: «Посланец вошел в квартиру без труда — дверь была отперта, и в квартире был такой же холод, как на дворе. Ф.Ф. (Нотгафт, член „Мира искусства“. — Прим. ред.) и его супруга лежали на диване рядом, укрытые пледом и давно уже умершие. А на двери, на перекинутом от нее шнуре от оконной занавески, привязанном к медной ручке, висела Анастасия Сергеевна Боткина. Рядом лежал поваленный стул. А на стенах висели десятки холстов и гуашей, цена которых составляла в предвоенное время многие сотни тысяч рублей».
«Блокадная этика»
Сергей Яров
Сквозь цензуру и самоцензуру, сквозь хаос повествования, сквозь ужас, которыми объяты рассказчики, сквозь слухи, преувеличения, городские легенды Яров кропотливо пробирается к сути вопроса: как менялись мораль и этика, как сдвигались нравственные оси, как менялось сознание, как, иными словами, стало возможным все то, что происходило в мерзлой тьме коммуналок, в остервеневших очередях, на омертвевших снежных улицах. Беспощадный взгляд на человека как животное сугубо социальное.
Цитата: «В разобщенном, потерявшем традиционные опоры блокадном сообществе немного оставалось мест, где ритуалы цивилизации еще соблюдались — хотя и не так, как прежде. Это в выморочном доме, где почти не было жильцов, соседу могли не дать воды, это на пустынных, темных и обледенелых улицах безразлично проходили мимо живых и мертвых. Там, где люди трудились и всегда были на виду (…), там нравственные заповеди отмирали медленнее».
«Неизвестная блокада»
Никита Ломагин
Эту книгу презирают специалисты, возненавидели ее и многие читатели. Хотя, казалось бы, Ломагин сделал то, что все так или иначе требовали: обратился к фактам и заставил их говорить самих за себя. Он опубликовал документы из советских архивов, материалы фашистской пропаганды, которой бомбили Ленинград, доносы НКВД, бдительно пасшего своих умирающих поднадзорных, свидетельства очевидцев. Что же не так? Сперва это удивляет: ведь работа проделана колоссальная. Потом подозреваешь, что большинство читателей просто не смогли продраться через густое и несколько занудное научное предисловие, ринулись дальше — и сразу напоролись на топор людоеда. Потом всех взбесило то, что и фашисты в этой книге получили «право голоса». А потом становится ясно, что факты — это еще не правда, и вспоминаешь персонажа из «Войны и мира»: все, что говорила графиня Вера, как всегда, было умно, правильно и по существу, но всем, как всегда, почему‑то стало за нее неловко.
Цитата: «В дневниках отразилось усложнение отношений между ленинградцами, разрыв внутренних связей, замена коммунитарности боязнью ближних, вытеснение милосердия и сострадания желанием мести и т. п. Дневники свидетельствуют о том, с какого времени тема смерти стала главной. С начала войны и до 1944 г. большое внимание у представителей старшего поколения проявлялось к информации СМИ о союзниках в борьбе с Германией. В дневниках есть упоминания и даже вырезки практически статей, посвященных выступлениям лидеров союзных держав. Если в первые два года войны в дневниках записи о лидерах союзников носили восторженный характер, то уже в 1944 г. отношение к союзникам изменилось. А.Остроумова-Лебедева, например, писала о том, что Рузвельт „копирует“ советский опыт, что русский народ выполняет в войне мессианскую функцию, что „не нам нужны перемены, а им“ (Франции, Англии и Соединенным Штатам)».
«Блокадные девочки»
Карина Добротворская
Как замечает автор: дали бы мне это опубликовать, как же, если бы я была каким‑нибудь обычным доктором исторических наук. Она права: то, что старушек-блокадниц расспрашивает о блокадном детстве глава глянцевого чертога Conde Nast, а после интервью следует дневник, где все едят и пьют что‑нибудь прекрасное, а героиня мучается сложными отношениями с едой, создает напряжение, недоступное доктору наук. Но дело не в том, что это написала глава русского Conde Nast. Добротворская первой сказала так бесстрашно и вслух, что ленинградская блокада все еще здесь. Все в ее книге правда. Читаешь и узнаешь себя: это о нас, это мы — ленинградские девочки, это наши родители, не знавшие войны, все равно держали в доме запас крупы и муки и сушили мешками мелкие сухарики. Мы — те, у кого до сих пор не поднимается рука выбросить хлеб. Хотя случалось выбрасывать туфли от Prada.
Цитата: «Наврозовы тоже едят, не останавливаясь, с какой‑то животной страстью — рвут теплый хлеб руками, стругают малюсенькие эротичные артишоки, поливают душистым густым оливковым маслом, привезенным откуда‑то в огромных бутылях, трут в эти артишоки пармезан, запивают все молодым красным вином из многолитровых канистр. А потом еще заедают невозможным для меня хрустящим скользким салатом из полупрозрачных хрящей и сельдерея, который я даже в рот взять не могу».
«Седьмая щелочь»
Полина Барскова
Одна из главных исследовательниц блокады в современной российской литературе придумала язык, на котором можно говорить о горе, муках и исторических катастрофах — ничего не смущаясь и ни о чем не умалчивая. Блокада в ее книге показана через наблюдение за жизнью восьми ленинградских поэтов: от официальных и признанных вроде Ольги Берггольц и Николая Тихонова до аутсайдеров вроде Геннадия Гора и Павла Зальцмана, чьи голоса были и остались в глубоком андеграунде. Барскова изучает их стихи и дает нам увидеть своих реально существовавших героев, издающих «ры-ры» и друживших с крысами, так, как смотрит на них она — с жалостью, любовью и ужасом. И пытается понять: как вообще в этом разрушенном городе могли писаться стихи?
Цитата: «Но именно во время блокады, как и у всех поэтов, выступающих в этих заметках, его стремление стать идеально, претворенно советским дает сбой, о котором я сейчас и хочу сказать. В огромном своде его блокадного письма происходит что‑то вроде утечки ядовитого (а на самом деле драгоценного) вещества — недисциплинированной памяти. И так возникает его многослойный блокадный город, где из‑под воодушевляющего плаката зияет раскуроченная взрывом тревожащая стена».
«Помнить по-нашему. Соцреалистический историзм и блокада Ленинграда»
Татьяна Воронина
О чем мы говорим, когда говорим о блокаде? Эта книга — про то, как менялось наше представление об этой трагедии, часто подменяя реальность. Татьяна Воронина рассказывает, как официальные советские нарративы представляли особую, героизированную версию блокады, о чем и почему умалчивали — и как к этой очищенной соцреалистической версии собственного опыта относились сами жители Ленинграда. Очень важное чтение для времени, когда история снова становится инструментом для политики, а не наоборот.
Цитата: «Невинные жертвы войны, в соответствии с советской версией прошлого, не были апатичными жертвами обстоятельств. Они понимались как активные участники исторического процесса: если могли, то они сражались, если у них не было такой возможности — делали все, что было в их силах, чтобы помочь „своим“ и победить врага. Это касалось и тех, кто умер от голода в блокаду, и тех, кого каратели сжигали в белорусских деревнях. Таким образом, они не исключались из публичной памяти, но играли вполне определенную роль — жертв фашизма и наиболее пострадавших героев. В советских публичных репрезентациях о трагедии, как правило, говорилось в контексте преодолеваемых трудностей. История блокады Ленинграда не стала исключением из правила. При всей своей схожести „исходных данных“ — огромное число погибших, состав пострадавших (в первую очередь гражданские лица) — она не стала „советским холокостом“. Я полагаю, это произошло потому, что, во-первых, в СССР не существовало подходящего языка рассказа об истории как трагедии. Описанные по-советски жертвы холокоста немедленно превращались в героев-антифашистов. Во-вторых, в СССР, а затем и в России не существовало серьезных политических сил, заинтересованных в придании блокаде других смыслов. Традиция рассказа о войне в СССР предполагала вполне определенный модус в презентации: победа была важнее испытанных людьми ужасов».
«Сурвило»
Ольга Лаврентьева
Когда память о тридцатых и сороковых — самых страшных годах в истории страны — начала притупляться, нашелся еще один способ оживить их в памяти: языком графики. Ольга Лаврентьева рассказывает историю своей бабушки, трагическую и типичную: репрессированный отец, ссылка в Башкирию, затем — возвращение в Ленинград, смерть матери, блокада, работа санитаркой в тюремной больнице НКВД. И, несмотря ни на что, долгая жизнь после: Валентина Викентьевна Сурвило смогла подержать в руках собственную историю, записанную и зарисованную внучкой. Сочетание экспрессивности с документальной достоверностью позволяют взглянуть на жизнь одного человека в блокадном городе одновременно изнутри и снаружи — и понять больше, чем иной раз поймешь из нескольких томов конвенциональной прозы.
Источник
«Блокадная книга»
Даниил Гранин, Алесь Адамович
Впервые напечатанная с купюрами в «Новом мире» в 1977 году, много раз переизданная с тех пор и один раз даже прочитанная перед камерой режиссера Александра Сокурова, «Блокадная книга» — это то, что должно стоять на полке в каждой петербургской семье. Адамович и Гранин собирали, записывали, компоновали документальные свидетельства и интервью. В поисках свидетелей ходили по ленинградским коммуналкам, натыкаясь на неизбежный вопрос «А вам зачем?». К концу семидесятых ленинградская блокада была почти запретной темой: о ней не хотели слышать и те, кто ее пережил, и официальная пропаганда, хотя сама Вторая мировая война как таковая всегда оставалась предметом священным. Так русская культура впервые встала перед болезненной загадкой «ленинградского стыда»: советские Афины, которым внезапно выпала участь Спарты, не хотели касаться своих ран. «Блокадная книга» не дает ответа на вопрос, почему. Она впервые описала раны. Упоминания о людоедстве, о совместных банях мужчин и женщин, равно превратившихся в ходячие безразличные мумии, советская цензура, конечно, вымарала: за какую грань перешли ленинградцы, никому не хотелось ни знать, ни вспоминать.
Цитата: «Откровенно говоря, мы многого не знали, не знали, какие жестокие вещи стоят за привычными словами „ленинградская блокада“. Даже мы, прошедшие войну — один в белорусских партизанах, другой на Ленинградском фронте, — казалось, привычные ко всему, были не готовы к этим рассказам. Они ведь, эти люди, щадили нас все годы, но себя, рассказывая, уже не щадят…»
«Проходящие характеры. Проза военных лет. Записки блокадного человека»
Лидия Гинзбург
Об их издании в СССР нечего было и думать. Лидия Гинзбург это понимала хорошо — недаром в ее прозе так часто мелькает мысль: а не загнивают ли тексты без читателя. Над записками Гинзбург работала почти полвека, начиная с 1942 года; при публикации поставила тройную дату «1942 — 1962 — 1983». То, что человек подобного интеллекта и литературного дара пережил блокаду и рассказал о ней, своего рода культурная удача: на такой бесстрашный уровень осмысления экзистенциальный опыт блокады был поднят впервые и один-единственный раз. День дистрофика (начинается микроглавой «Пробуждение», кончается «отходом ко сну»), разговоры в столовых и на улицах — с наибольшей полнотой блокадная проза Гинзбург издана совсем недавно, в 2011 году.
Цитата: «В отчужденном теле совершается ряд гнусных процессов — перерождения, усыхания, распухания, непохожих на старую добрую болезнь, потому что совершающихся как бы над мертвой материей. Иные из них даже незаметны для пораженного ими человека. „А ведь он уже пухнет“, — говорят про него, но он еще не знает об этом. Люди долго не знали, пухнут ли они или поправляются. Вдруг человек начинает понимать, что у него опухают десны. Он с ужасом трогает их языком, ощупывает пальцем. Особенно ночью он подолгу не может от них оторваться. Лежит и сосредоточенно чувствует что‑то одеревенелое и осклизлое, особенно страшное своей безболезненностью: слой неживой материи у себя во рту.
Месяцами люди — большая часть жителей города — спали не раздеваясь. Они потеряли из виду свое тело. Оно ушло в глубину, замурованное одеждой, и там, в глубине, изменялось, перерождалось. Человек знал, что оно становится страшным».
«Сохрани мою печальную историю… Блокадный дневник Лены Мухиной»
Всем, кто пережил пионерское детство, известен «Дневник Тани Савичевой»; собственно, он состоит из фраз, коротких, как надпись на обелиске: умер тот-то, умерла такая-то, умерли все, осталась одна Таня. Это форма, в которой в СССР допускалось знать о блокаде: главное, без деталей. Детали — в другом детском дневнике, Лены Мухиной. Он страшен именно своей простотой. Мучительный, унизительный, обесчеловечивающий, трагически-мелочный быт, где с зимы 1941 года детства больше нет вообще.
Цитата: «По правде говоря, если Ака умрет, это будет лучше и для нее, и для нас с мамой. Так нам приходится все делить на три части, а так мы с мамой все будем делить пополам. Ака — лишний только рот. Я сама не знаю, как я могу писать такие строки. Но у меня сердце теперь как каменное. Мне совсем не страшно. Умрет Ака или нет, мне все равно».
«Воспоминания о блокаде»
Владислав Глинка
Сотрудник Эрмитажа Владислав Михайлович Глинка начал писать свои воспоминания летом 1977 года, вдруг разъярившись из‑за потока опубликованной лжи («особенно гадкими кажутся мне поддельные дневники»), на публикацию не рассчитывал, рукопись так и лежала в семье. Сейчас, когда блокадных мемуаров и дневников опубликовано много, воспоминания Глинки важны тем, что бросают свет на одну частную трагедию: как вымирали интеллигенты. Те, кто не умел заготавливать и не имел практической сметки: одиночки на крошечной зарплате или вполне богатые коллекционеры, знаменитые ученые или мелкая музейная сошка, уцелевшие после кировского террора аристократы или роскошные обломки «старой культуры», не растерявшие себя в настоящей. Снова стать советскими Афинами Ленинграду было уже не суждено.
Цитата: «Посланец вошел в квартиру без труда — дверь была отперта, и в квартире был такой же холод, как на дворе. Ф.Ф. (Нотгафт, член „Мира искусства“. — Прим. ред.) и его супруга лежали на диване рядом, укрытые пледом и давно уже умершие. А на двери, на перекинутом от нее шнуре от оконной занавески, привязанном к медной ручке, висела Анастасия Сергеевна Боткина. Рядом лежал поваленный стул. А на стенах висели десятки холстов и гуашей, цена которых составляла в предвоенное время многие сотни тысяч рублей».
«Блокадная этика»
Сергей Яров
Сквозь цензуру и самоцензуру, сквозь хаос повествования, сквозь ужас, которыми объяты рассказчики, сквозь слухи, преувеличения, городские легенды Яров кропотливо пробирается к сути вопроса: как менялись мораль и этика, как сдвигались нравственные оси, как менялось сознание, как, иными словами, стало возможным все то, что происходило в мерзлой тьме коммуналок, в остервеневших очередях, на омертвевших снежных улицах. Беспощадный взгляд на человека как животное сугубо социальное.
Цитата: «В разобщенном, потерявшем традиционные опоры блокадном сообществе немного оставалось мест, где ритуалы цивилизации еще соблюдались — хотя и не так, как прежде. Это в выморочном доме, где почти не было жильцов, соседу могли не дать воды, это на пустынных, темных и обледенелых улицах безразлично проходили мимо живых и мертвых. Там, где люди трудились и всегда были на виду (…), там нравственные заповеди отмирали медленнее».
«Неизвестная блокада»
Никита Ломагин
Эту книгу презирают специалисты, возненавидели ее и многие читатели. Хотя, казалось бы, Ломагин сделал то, что все так или иначе требовали: обратился к фактам и заставил их говорить самих за себя. Он опубликовал документы из советских архивов, материалы фашистской пропаганды, которой бомбили Ленинград, доносы НКВД, бдительно пасшего своих умирающих поднадзорных, свидетельства очевидцев. Что же не так? Сперва это удивляет: ведь работа проделана колоссальная. Потом подозреваешь, что большинство читателей просто не смогли продраться через густое и несколько занудное научное предисловие, ринулись дальше — и сразу напоролись на топор людоеда. Потом всех взбесило то, что и фашисты в этой книге получили «право голоса». А потом становится ясно, что факты — это еще не правда, и вспоминаешь персонажа из «Войны и мира»: все, что говорила графиня Вера, как всегда, было умно, правильно и по существу, но всем, как всегда, почему‑то стало за нее неловко.
Цитата: «В дневниках отразилось усложнение отношений между ленинградцами, разрыв внутренних связей, замена коммунитарности боязнью ближних, вытеснение милосердия и сострадания желанием мести и т. п. Дневники свидетельствуют о том, с какого времени тема смерти стала главной. С начала войны и до 1944 г. большое внимание у представителей старшего поколения проявлялось к информации СМИ о союзниках в борьбе с Германией. В дневниках есть упоминания и даже вырезки практически статей, посвященных выступлениям лидеров союзных держав. Если в первые два года войны в дневниках записи о лидерах союзников носили восторженный характер, то уже в 1944 г. отношение к союзникам изменилось. А.Остроумова-Лебедева, например, писала о том, что Рузвельт „копирует“ советский опыт, что русский народ выполняет в войне мессианскую функцию, что „не нам нужны перемены, а им“ (Франции, Англии и Соединенным Штатам)».
«Блокадные девочки»
Карина Добротворская
Как замечает автор: дали бы мне это опубликовать, как же, если бы я была каким‑нибудь обычным доктором исторических наук. Она права: то, что старушек-блокадниц расспрашивает о блокадном детстве глава глянцевого чертога Conde Nast, а после интервью следует дневник, где все едят и пьют что‑нибудь прекрасное, а героиня мучается сложными отношениями с едой, создает напряжение, недоступное доктору наук. Но дело не в том, что это написала глава русского Conde Nast. Добротворская первой сказала так бесстрашно и вслух, что ленинградская блокада все еще здесь. Все в ее книге правда. Читаешь и узнаешь себя: это о нас, это мы — ленинградские девочки, это наши родители, не знавшие войны, все равно держали в доме запас крупы и муки и сушили мешками мелкие сухарики. Мы — те, у кого до сих пор не поднимается рука выбросить хлеб. Хотя случалось выбрасывать туфли от Prada.
Цитата: «Наврозовы тоже едят, не останавливаясь, с какой‑то животной страстью — рвут теплый хлеб руками, стругают малюсенькие эротичные артишоки, поливают душистым густым оливковым маслом, привезенным откуда‑то в огромных бутылях, трут в эти артишоки пармезан, запивают все молодым красным вином из многолитровых канистр. А потом еще заедают невозможным для меня хрустящим скользким салатом из полупрозрачных хрящей и сельдерея, который я даже в рот взять не могу».
«Седьмая щелочь»
Полина Барскова
Одна из главных исследовательниц блокады в современной российской литературе придумала язык, на котором можно говорить о горе, муках и исторических катастрофах — ничего не смущаясь и ни о чем не умалчивая. Блокада в ее книге показана через наблюдение за жизнью восьми ленинградских поэтов: от официальных и признанных вроде Ольги Берггольц и Николая Тихонова до аутсайдеров вроде Геннадия Гора и Павла Зальцмана, чьи голоса были и остались в глубоком андеграунде. Барскова изучает их стихи и дает нам увидеть своих реально существовавших героев, издающих «ры-ры» и друживших с крысами, так, как смотрит на них она — с жалостью, любовью и ужасом. И пытается понять: как вообще в этом разрушенном городе могли писаться стихи?
Цитата: «Но именно во время блокады, как и у всех поэтов, выступающих в этих заметках, его стремление стать идеально, претворенно советским дает сбой, о котором я сейчас и хочу сказать. В огромном своде его блокадного письма происходит что‑то вроде утечки ядовитого (а на самом деле драгоценного) вещества — недисциплинированной памяти. И так возникает его многослойный блокадный город, где из‑под воодушевляющего плаката зияет раскуроченная взрывом тревожащая стена».
«Помнить по-нашему. Соцреалистический историзм и блокада Ленинграда»
Татьяна Воронина
О чем мы говорим, когда говорим о блокаде? Эта книга — про то, как менялось наше представление об этой трагедии, часто подменяя реальность. Татьяна Воронина рассказывает, как официальные советские нарративы представляли особую, героизированную версию блокады, о чем и почему умалчивали — и как к этой очищенной соцреалистической версии собственного опыта относились сами жители Ленинграда. Очень важное чтение для времени, когда история снова становится инструментом для политики, а не наоборот.
Цитата: «Невинные жертвы войны, в соответствии с советской версией прошлого, не были апатичными жертвами обстоятельств. Они понимались как активные участники исторического процесса: если могли, то они сражались, если у них не было такой возможности — делали все, что было в их силах, чтобы помочь „своим“ и победить врага. Это касалось и тех, кто умер от голода в блокаду, и тех, кого каратели сжигали в белорусских деревнях. Таким образом, они не исключались из публичной памяти, но играли вполне определенную роль — жертв фашизма и наиболее пострадавших героев. В советских публичных репрезентациях о трагедии, как правило, говорилось в контексте преодолеваемых трудностей. История блокады Ленинграда не стала исключением из правила. При всей своей схожести „исходных данных“ — огромное число погибших, состав пострадавших (в первую очередь гражданские лица) — она не стала „советским холокостом“. Я полагаю, это произошло потому, что, во-первых, в СССР не существовало подходящего языка рассказа об истории как трагедии. Описанные по-советски жертвы холокоста немедленно превращались в героев-антифашистов. Во-вторых, в СССР, а затем и в России не существовало серьезных политических сил, заинтересованных в придании блокаде других смыслов. Традиция рассказа о войне в СССР предполагала вполне определенный модус в презентации: победа была важнее испытанных людьми ужасов».
«Сурвило»
Ольга Лаврентьева
Когда память о тридцатых и сороковых — самых страшных годах в истории страны — начала притупляться, нашелся еще один способ оживить их в памяти: языком графики. Ольга Лаврентьева рассказывает историю своей бабушки, трагическую и типичную: репрессированный отец, ссылка в Башкирию, затем — возвращение в Ленинград, смерть матери, блокада, работа санитаркой в тюремной больнице НКВД. И, несмотря ни на что, долгая жизнь после: Валентина Викентьевна Сурвило смогла подержать в руках собственную историю, записанную и зарисованную внучкой. Сочетание экспрессивности с документальной достоверностью позволяют взглянуть на жизнь одного человека в блокадном городе одновременно изнутри и снаружи — и понять больше, чем иной раз поймешь из нескольких томов конвенциональной прозы.
Источник
-1
Другие новости



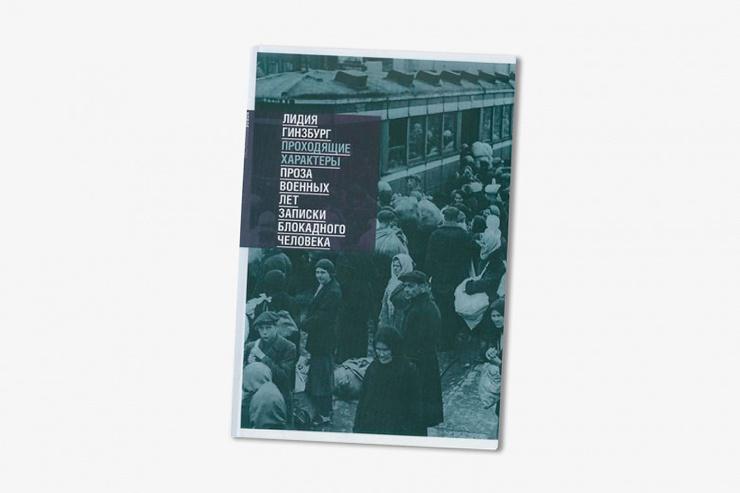



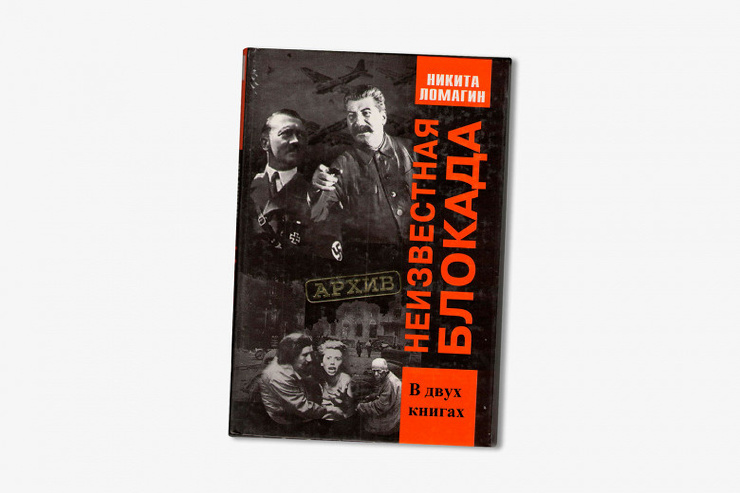


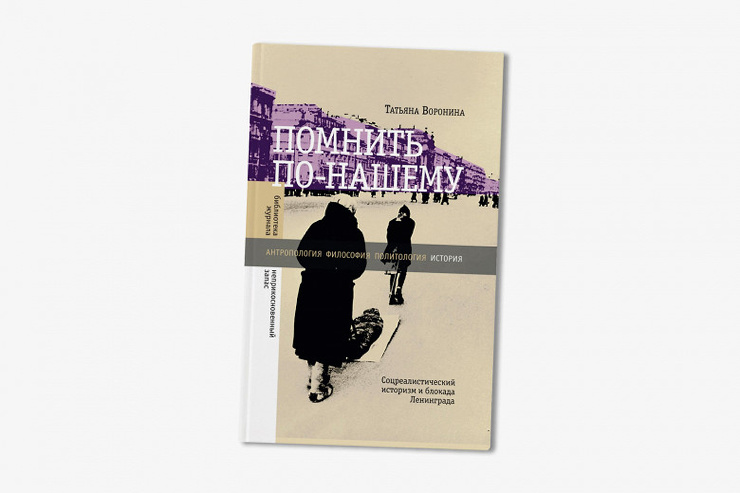


Написать комментарий: